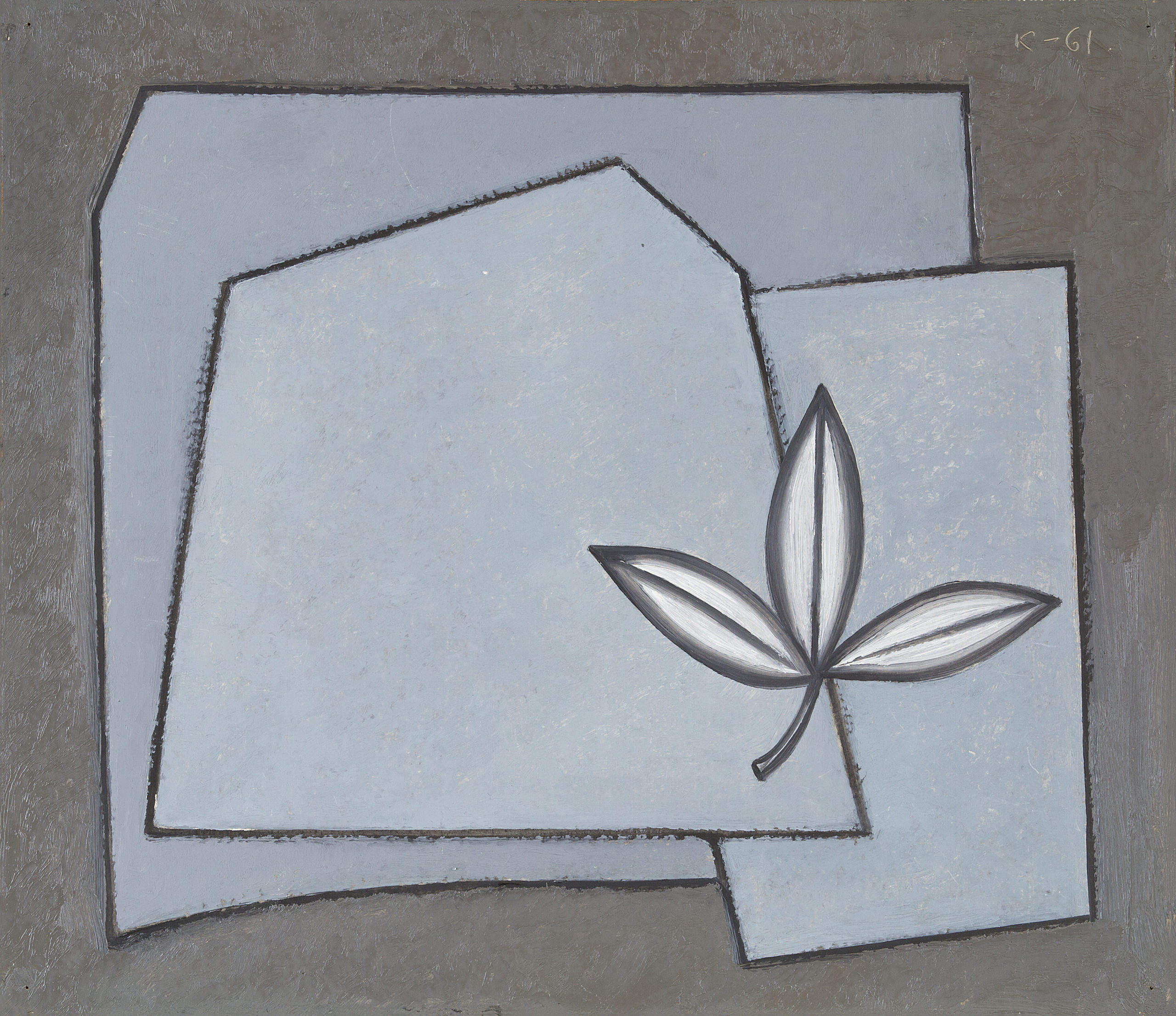Состоялось открытие нового театрального сезона, в связи с чем мы взяли интервью у одного из талантливейших режиссеров Москвы Андрея Анатольевича Гвоздкова и поговорили о том, что такое театр, каким образом он развивается, как затрагивает понятия вечного и великого и чем отличается от шоу.
Давайте сначала поговорим о вашей карьере и о том, как вы пришли к режиссерской деятельности. Насколько мне известно, вы закончили Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина, сначала на актерском, а затем на режиссерском факультете. Скажите, как вам в принципе пришла в голову идея начать деятельность в этой сфере?
Вы знаете, у меня ощущение, что я родился с этой идеей. Хотя… надо сказать, что все-таки это случилось в Московском художественном академическом театре; был спектакль «Три толстяка». Тогда я понял на всю жизнь: что-то происходит помимо того, что хочет зритель, актер, того, что задумал режиссер, какая-то магия. Вот в ощущении этой магии я и находился.
У вас сначала было актерское направление, потом вы перешли в режиссуру. Почему вы решили сменить направление?
Это не я решил. Мои педагоги сказали: «Знаешь, Андрюш, ты все время контролируешь то, что происходит на сцене. Для актера это профнепригодность. Контролировать всё, что делается на сцене, за кулисами — это профессия режиссера». Мне доводилось поиграть, я получил удовольствие от этого, но я один из самых слабых актеров Москвы… Хотя, справедливости ради надо сказать, что есть и похуже, наверное, я где-то в середине. Но это не было мое решение, а решение педагогов, и я с ними совершенно согласен. Я немного иначе вижу сцену.
Иначе – вы имеете в виду с точки зрения организационного процесса?
Способность что-то нести, организовывать, создавать не имеет техники. Это приходит с рождения, у большинства режиссеров что-то в голове не так. Объяснить это словами сложно, да и не нужно. Они как-то иначе видят. Есть даже режиссеры, которые учились в институте, но делают полную фигню и говорят: «Я так вижу». У кого-то из режиссеров была такая умная мысль: «Театр находится только в голове у зрителя». Вот сколько зрителей в театре, столько и видений спектакля.
Встречались ли вам люди, которые на вас очень сильно повлияли как на профессионала?
Что вы, конечно! Это прежде всего Андрей Алексеевич Попов. Я застал еще театр Советской Армии, это было настолько потрясающее уважение к этому человеку, это была такая любовь. И, конечно, Олег Николаевич Ефремов. Нам всегда говорили: «Не сидите в аудитории, если хотите учиться режиссуре, идите на репетиции». И мы ходили, учились всему, чему можно. Вот если вы, например, пойдете к Марку Анатольевичу Захарову, вы не поймете, как это происходит, это действительно магия. Я всю жизнь хотел попасть на репетиции к Георгию Александровичу Товстоногову, но к сожалению, не довелось. Так или иначе, это эталон театра, шла большая молва о том, как это происходило.
Насколько я знаю, вам довелось поработать не только в театре Советской Армии, но и участвовать в организации Олимпиады 1980 года в Москве?
Да, был такой грех (смеется). Собрали режиссеров, такое часто было на массовых мероприятиях: олимпиады, фестивали… Это несколько ночей без отдыха и сна, но было очень интересно, какой-то сумасшедший восторг. И все время, каждый час, возле был человек из комитета государства.

Какая была разница между режиссурой театра и этого мероприятия?
Очень большая, шоу и театр – разные вещи. Сейчас, к сожалению, театр очень часто превращается в шоу, и это беда. Шоу — это хорошо, конечно, если оно воздействует на вас, бодрит. Но вот к театру это не имеет никакого отношения. Тогда, например, была жуткая идеология, политика, и сделать шоу было очень сложно: за нами следили, c нас требовали, цензурировали каждое слово, и нам все равно было интересно, мы все были жутко молодые.
А какие у вас были проекты в рамках Олимпиады?
Мы работали в клубах, потому что было очень много гостей и фестивалей помимо основных открытия и закрытия. У меня были немцы, голландцы, чехи, вот с ними мы и работали. Каждый день приезжали гости, спортсмены, артисты, мы работали, обменивались опытом, было безумно интересно.
Какие проекты в вашей творческой карьере самые сложные?
В 90-е годы в группе режиссеров, с которой я работал свое время, мы придумали карнавал на Павловской в Москве. И нам дали некоторый «карт-бланш», только-только начал появляться некий воздух от комитета государственной безопасности… Мы поставили вдоль улицы 12 площадок. 12 режиссерских групп творческих должны были соревноваться – у кого больше зрителей, тот и побеждал. Что касается интересов… Я же еще работал ведущим во всех этих молодежных фестивалях, я вел мероприятия в трех местах: отрабатывал в одном месте, меня сажали в машину и везли в другое место. В машине был переводчик и сотрудник КГБ, и пока мы ехали, я рассказывал, что буду делать. Это было страшно интересно, особенно потому, что всё, что я рассказывал в машине, никогда не совпадало с тем, что было на самом деле.
Что было наиболее сложным именно на сцене? Может быть, вы помните какую-то постановку, которую было сложно режиссировать?
Нет, я такого не помню. Почему-то мне никогда не бывает сложно, но мои актеры знают, что я никогда не бываю на своих спектаклях. Никогда. Я выпускаю генеральную репетицию, но сам спектакль не смотрю. Я не могу его видеть глазами зрителя.
Почему?
Хороший вопрос. До сих пор не могу на него ответить. Вы знаете, у многих режиссеров есть такая штука: они идут на 30-й спектакль, но первый не могут смотреть — нервы не выдерживают.
Помните ли вы первую постановку, которую режиссировали?
Это была финская пьеса, довольно дешевая, про революцию, я даже уже, наверное, не вспомню, в чем там суть. Но я там придумал такую штуку с трансформером… Костюмеры меня ненавидели: мне надо было сделать – и это было очень важно – из белого свадебного платья вылезала актриса и превращалась во что-то черное, а потом в красный стяг. Мне было это интересно сделать… Потом уже настал театр Советской Армии, там такая сцена, мы постоянно что-то делали, окопы, катакомбы, бункеры…
Как вам кажется, что самое сложное в работе режиссера?
Я отвечу не своими словами. Как-то Марк Анатольевич Захаров сказал: «Каждый раз, когда я прихожу в зал, и думаю: «Только бы они не догадались о том, что я ничего не знаю». Вот, наверное, этот страх до сих пор есть. Я люблю актеров, наверное, поэтому, я боюсь, что они узнают, что я ничего не умею (смеется). На самом деле, если ты любишь актеров, то все получится. Я из тех режиссеров, которые убеждены, что главный в спектакле – актер. Только актер. Когда вы приходите, неважно, сколько людей с ним работали: художники, сценаристы, режиссеры – только актер выходит на сцену. Это и есть театр и ничего другого там нет. Почему раньше существовало 30 премьерных спектаклей? Потому что в течение этих спектаклей зритель ставил спектакль, он, и никто другой. Когда актер выходит на сцену, он играет пьесу по-своему, и каждый зритель видит ее по-своему. Главное – создать атмосферу, возбудить в зрителе какой-то – нравственный, духовный, какой угодно – вирус, заставить задуматься, это и есть театр. Вот вы, актер, начали со мной разговаривать. Я пришел отсюда из метро, автобуса, и со мной начинают разговаривать, не говоря ни слова. И я сопротивляюсь, соглашаюсь, думаю – я соучаствую. Был такой актер, он как-то сказал: «Слушайте, я только к 25-му спектаклю понял, что я играю». Вот зрители в этом смысле помогают. А так – сложного ничего нет. Вы знаете, когда заходишь на площадку, начинаешь работать, что-то отключается.
А что нужно, чтобы стать режиссером?
Вы знаете, это либо дано от природы, либо нет. Если актеры говорят о нём и светятся, он настоящий.
Раз уж мы заговорили о театрах, давайте перейдем к студенческому театру МГУ «Театр ++»….
Это, сразу скажу, ужасное название, я протестовал, говорил, что это не театрально, но что есть, то есть.
Как получилось, что вы начали руководить театром?
Я никогда им не руководил, я был его режиссером. Там есть факультет ВМК (факультет вычислительной механики и кибернетики МГУ – прим. редакции) , и оттуда появился этот театр, который они назвали в честь языка программирования. На мои крики, увещевания, что это не театральное название, они не отреагировали и все равно решили так назваться. Все началось с пьесы «Успеть до полуночи» по сказке Шварца «Золушка», и они меня пригласили поставить её. И мы довольно быстро поставили, был безумно смешной спектакль. И так получилось, что сейчас многие из ребят уже давно в профессии, основные персонажи только что закончили контракт в мюзикле «Бал вампиров». Они все закончили ВМК. Спрашивается: зачем? С этим спектаклем, который был очень удачным и успешным, так случилось, что это был конец их студенческой жизни. Как они написали дипломы и защитились, я не понимаю, но они это сделали. Уходя, они собрали еще один состав, и после этого спектакля пришло очень много людей, на кастинг пришло сначала 480 человек со всех факультетов, они шли целенаправленно в этот театр. Мы успели с ними сделать еще три спектакля, прежде чем меня позвали в театр «Камин».
Скажите, наверняка это было очень сложно – работать со студентами, которые не являются профессионалами в театральной сфере и находятся от этого достаточно далеко.
У меня было множество театральных учеников, и я их позвал, они делали из ребят всё, что могли. Это были короткие курсы мастерства, речи, пластики. Таким образом и набирали команду. Многие потом ушли в театральный вуз. Поэтому меня в МГУ ненавидят – после этого вуза многие ушли получать второе высшее в этой сфере.
Какие еще спектакли вы ставили?
Спектакль «Море», я сейчас делаю еще одну версию. Аркадий Исаакович Райкин – это режиссер, которого я очень люблю и уважаю. Это театр одного актера, ведь там другие актеры жертвуют собой, они знают, что играют на него, и это беспрецедентно в истории театра. Потом его сын начал делать спектакли, Константин Райкин, но это уже своеобразная смесь и некоторая пародия. Пародия тоже бывает хорошей, но всё же… Так вот, было несколько миниатюр, очень смешные, добрые, нежные, про доброту, про вечное, это не сегодняшние новостные программы. Мы также сыграли спектакль «Город раненых», потом я его немного трансформировал, и он вошел в театр «Камин», центром спектакля был рассказ Бориса Васильева «Экспонат номер»… Страшный рассказ, страшный, и все это было сшито письмами с войны… Сказку «Царевна-лягушка» тоже ставили, очень взрослый, ну просто предельно взрослый спектакль.
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы стать актёром, необязательно иметь высшее образование, судя по опыту этих ребят?
Это, что называется, поцеловал Господь. Актёр — это единственная профессия, у которой нет инструментария, вот, например, повар пользуется продуктами, слесарь инструментами, а у него ничего этого нет. У актёра один из сложнейших инструментов — его психика, и поэтому это очень ранимые ребята. Если это хороший актёр, он растрачивает психику, и это очень тяжело. Ну и конечно, ваше тело… В любой роли актер входит в конфликт с ним: тело находится в комфорте, а режиссер говорит: «Вы в тундре, вам холодно», вот и нужно пойти поработать с этим. Это режиссер может просто прийти и начать работать, и если у него есть харизма, он сможет. А актёр — это сложнейшая работа, и хороший актёр – это ребенок, это самая зависимая профессия жизни. Он зависит от всего: от зрителя, от роли, от партнёра, от режиссёра…
По какому принципу вы отбирали пьесы для того, чтобы поставить?
Не знаю… Сейчас я взялся за «Стакан воды», я проснулся с мыслью о том, что надо бы эту пьесу сделать. Я очень ее люблю, мы ее сейчас уже почти заканчиваем. Однажды я решил сделать пьесу, давно-давно, достаточно молодым, я делал спектакль на тему «Дон-Кихота», и когда я начал это делать, в большинстве театров возникла работа над этим спектаклем. Не знаю, как это происходит, вот что-то наверху существует, эта идея осыпается и приходит… Совсем недавно я взялся за работу Карла Гольдони «Трактирщица». В четырех театрах сейчас ставится этот спектакль, как и откуда это приходит, я не знаю.
А вы вообще часто ходите в театры?
Да, я стараюсь довольно часто это делать, это очень важно, много чего они подсказывают, иногда планка опускается, но чаще поднимается… Такие находки. Вот там где шоу, где со мной не разговаривают, мне скучно. Там, где из Льва Николаевича Толстого делают лайт-шоу, мне скучно. Анна Каренина — это не анекдот, это философия, и об этом писал Толстой. Он посредством этой истории со мной разговаривал, от чего-то предостерегал, говорил: «Осторожно, живи осторожно, смотри, кто вокруг тебя». А сейчас это играется легко: «Вот дура — взяла, изменила ему, посмотрите». Малаховщина, такое ток-шоу. Толстой, Чехов, Достоевский говорили о другом, о вечном, о том, что никуда не уйдет. А эти ребята, которых я называю синеблузниками… То же самое делали агитбригады – собиралась толпа, было весело, задорно, здорово. Знаете, много лет назад я присутствовал на стадионе, там был гениальный конферансье – Олег Анатольевич Милявский. И на представлении был какой-то зритель подвыпивший, и он ему что-то такое крикнул неприличное, и воцарилась тишина. Милявский остановился и говорит: «Когда в голове пусто, это слышно», и ушел. И зритель тоже ушел, потому что понял это. Сейчас пустота стала очень шумной, пустота везде. И то, что сейчас называется театром…. Я не люблю пустоту, мне скучно от нее. В пустоте нет ничего. Мне это неинтересно. Это не значит, что этого не должно быть, другое дело, что пустота может здорово отсрочить мою встречу с вечным, мою встречу с умным, с размышлениями. Жалко времени, жалко жизни, которая уходит в пустоту.

Бывает ли такое, что вы приходите на постановку, и думаете: «А я бы сделал по-другому, лучше», и хочется ее сделать у себя?
Очень редко. Я к любой режиссуре с огромным пиететом отношусь, поэтому нет, переделывать не хочу. Я знаю точно, что никогда не возьмусь за всё, что делает Марк Анатольевич Захаров. Я много раз видел «Вишнёвый сад», но когда я увидел его «Вишнёвый сад», я погиб. Я погиб, я влюбился в этот спектакль. Очень здорово было сделано. Я вообще либо не принимаю спектакль, но это не значит, что я его захочу переделать. Боже упаси.
Есть ли у вас любимые театры, куда вы ходите чаще всего?
Я хожу в театр Маяковского. Он один из немногих театров в Москве, которые сохраняют атмосферу, я его обожаю и считаю его уникальной эстетикой. Фонтанирующий театр Петра Фоменко… Я после ухода Фоменко не был там еще ни разу, не знаю, что там происходит, но люблю этот театр, он мне очень нравится. Вот, пожалуй… Ну и конечно, театр Российской Армии и Вахтанговский театр, он вообще как-то особняком лежит в моей жизни, я некоторое время там работал, я бесконечно его люблю. Когда туда вошел Римас Туминас, он меня положил на все лопатки, он очень интересен. Когда он сделал «Онегина», я сдался навсегда.
Если говорить о взаимодействии зрителя и актера: есть традиционное четкое разделение сцены и зрительского зала, но и бывает, что эта граница почти стирается и зритель фактически становится соучастником – как вы к этому относитесь?
Ну, здорово все, если там есть театр, театра актера, который заводит, который делает, который создает атмосферу, затягивает. В любом действии есть магия театра, а уж где он, как он… Это все не ново. Если зритель чувствует, что это театр, это он.
Давайте теперь поговорим про ваш проект театра «Камин». Почему был выбран именно жанр миниатюры?
Это решили актеры этого театра. То, что называется этюдами, в театральной среде очень важно, но там очень сложно проявиться как актеру. Знаете, это как рассказывать анекдот – есть люди, которые рассказывают его, и никто не понимает, в чем дело, а есть те, кто расскажет, и всем смешно. Миниатюры – это то же самое. Тут обычно что-то очень нежное, веселое, трагичное. Это интересная форма, она стремительна, и она хороша.
Как началась ваша работа с этим театром?
Вокруг «Театра ++» собрались ребята, и они захотели делать театр, они кружились, им хотелось, они придумывали. Они меня позвали, увели из МГУ, и мы решили делать спектакли. То есть они решили, а я ставил. Образовалось некоторое театральное сообщество, они пригласили выпускников театральных училищ: Щепкинское, ГИТИС, Щукинское, Ярославский, Томский театральный институты… Вот как-то все пришли, всем хотелось работать, как говорят: «Глаза боятся, руки делают».
А как отбираются пьесы для постановок в этом театре? Это отличается от того, как вы говорили, «приходит сверху»?
Никак не отличается. Даже вот режиссера, которого я приглашаю в театр, я сначала проверяю, что из драматургии он хочет поставить. Если он не задумываясь говорит: «Хочу вот это», то тогда вопросов нет, а если он говорит: «Ну, знаете, можно было бы вот это, или вот то», тогда я сомневаюсь. Вообще эта тема очень мистическая.
Каким был закончившийся театральный сезон?
Сумасшедшим, мы пытались выжить. Володя (Владимир Бобор, руководитель театра – прим. автора) очень много что делает, он уникальный человек, очень мощный, несмотря на свой юный возраст, потрясающий стратег. Мы, и даже я, иногда сомневаемся, а он прёт и нас за собой тащит, благодаря этому мы познакомились с огромным количеством людей. Уходили прежние ребята, те, кто уже не мог подняться на этот уровень, появлялись профессионалы. И он построит профессиональный театр, соберет людей-профессионалов, я уверен.
Каким будет предстоящий сезон, что вы от него ожидаете?
Ничего. Есть только сейчас, здесь и сейчас. Что будет завтра, послезавтра – все равно, важно, что сейчас. Еще раз скажу, что театр – мистическая штука, кто-то нас ведет.
А есть ли у вас любимые постановки?
Все постановки. Сейчас мои молодые ребята готовят спектакль «Приглашение к казни», я не могу сказать, что я поглощен этой литературой, но мне интересно, что из этого получится.
Как вам кажется, те постановки и тот театр, который был 30, 40 лет назад, и нынешний, чем-то отличается?
Нет, ничем. Есть многие вещи, которые называются театром, но на самом деле им не являются. Театр вечен. Нет никакой разницы, нет современного театра, есть театр сегодня. Вчерашний театр – тот же, он просто работал в другое время. Никакого названия, ярлыка, отличия нет. Меняется язык. Любой театр воздействует на вечное, а если он говорит о политике… Вы знаете, какой-то режиссер сказал одну гениальную вещь, и я с ним согласен: «Там, где начинается правда, исчезает искусство». И он прав. Большинство сегодняшних авторов, молодых ребят, режиссеров, они воздействуют не на внутреннее, а на внешнее, и пользуются этим. Есть ребята, которые ищут что-то новое, авангардисты, априори несчастные люди, их не будут любить никогда. Но благодаря им театр развивается, за что им спасибо.
Сейчас современное искусство активно развивается, и появляются такие направления, как, например, перфомансы. Как вы относитесь к этому искусству?
Нельзя так однозначно относиться к этому. Театр — это, скорее, то, что возбуждает во мне желание думать. Театр — это тихо. Все виды искусства стремятся к одному – к музыке, это вершина искусства. Кто-то делает перфоманс и ему кажется, что это театр, но это средство самовыражения. Там, где я самовыражаюсь – театр заканчивается. Там, где я начинаю думать и заставлять думать других, и есть театр.
Есть большое количество актеров, которые играют и в театре, и в кино. Как вам кажется, в чем тут принципиальное различие?
Что касается режиссуры, то режиссура кино и театра – это две разные вещи. Часто режиссеры в кино говорят: «Ты сыграй то, что я прошу, а я склею». В кино у актёра меньше возможностей, это другая форма. Я знаю, многие актеры поражаются результату, что в сценарии это было одно, а в результате получается совсем другое, и они жалеют, что там участвовали. От склейки очень много зависит. В то же время многие актеры хотят участвовать, в кино, может быть, посмотреть на себя со стороны…. Я обожаю кино, правда. У меня была одна знакомая, одна из ведущих балетмейстеров страны, она думает и разговаривает ногами. Это потрясающе. Как она это делает, я не понимаю. Так вот она говорила: «Если я вижу лицо, это кино. Если я не вижу лица, это не кино, и мне это не интересно».
У вас никогда не было мысли попробовать срежиссировать что-то в кино?
Что вы, нет. Меня молодые ребята приглашали помочь, но режиссеры театра и кино – это разные вещи, и я понимал, что я не вписываюсь, это совсем другое. Я преклоняюсь перед ними, они гениальны. Но есть снимающие, а есть режиссеры — это важно понимать.
Вы когда-нибудь сталкивались с явлением профессионального выгорания у режиссеров?
Конечно, конечно, что вы. Даже внутри одной постановки бывает, что глаз так замыливается. Я знал режиссеров, которые начинают спектакль и не доводят до конца, они для себя его сыграли и все. Бывают и такие, которые начинают работать со спектаклем, горят им, но дальше им уже неинтересно. Это довольно распространённая режиссерская штука. Для этого надо очень много смотреть, ходить по театрам, завидовать, влюбляться, надо обожать другие постановки.
А у вас бывало это профессиональное выгорание, когда вы ощущали, что вас произведение уже не так цепляет?
Бывало, бывало такое, но в этом случае я пытаюсь думать о том, что я ответственен за других. Я организатор, от меня зависит, выйдут они на сцену или нет. Режиссер – это незавидная история, это человек, от которого много что зависит, нужно понимать, что это не бла-бла-бла, а значит, другого пути нет, нужно работать. Это очень важный момент, очень трудный. Часто я устаю, когда я вижу, что актеры пустые приходят, и я устаю, уничтожаюсь, и очень много сил уходит на то, чтобы их завести. Это психозатратно.
Бывает ли такое, что у вас не складывалось сотрудничество с каким-то актером?
Нет, бог миловал… Я влюбляюсь в актеров, это ощущение влюбленности… Они тоже начинают влюбляться, может быть, это оказывает влияние.
Были ли люди, которые после встречи с вами кардинально меняли свою жизнь и шли в актерскую деятельность?
Да, очень много, очень много. Ребята, которые сегодня работают в театре у нас и в «Театре++», не должны были работать по другой специальности, но они забыли о ней и ушли в театральную среду.
А что вы видите в этих людях? Это другой тип мышления?
Харизма, харизма и ничего другого. У нас был человек, скучнейшее существо, когда он просто сидел. Но когда он выходил на сцену, происходил взрыв, что-то невероятное, и не влюбиться было невозможно. Другие реакции, другие слова… Это не нужно быть режиссером, это и так видно. Вот у вас, например, актерская привычка: ваше лицо работает, оно постоянно разговаривает… Это сразу видно. Другое дело, что сложно сделать так, чтобы человек поверил в себя.
Какой совет вы можете дать нашим читателям, тем, кто хочет попробовать себя в актерской или режиссерской профессии?
Если вы хотите попробовать, не идите в эту профессию. Сюда нужно идти только тогда, когда по-другому нельзя. Если хотите попробовать, можно попробовать мороженое, поиграть в дартс.. Если вы хотите стать режиссером, актером – нужно нести ответственность за те, кто работает рядом с вами. Лев Дуров как-то сказал: «Профессия актера мало чем отличается от профессии шахтера». Он прав, это профессия, работа, это сложно, сложность в том, что вы играете телом, лицом… Я жалею актеров, им тяжело, они конечно получают удовольствие, но это все равно очень сложно. Как бы я хотел законодательно запретить актерам говорить! Все, кроме своего текста. Сегодняшние молодые актеры мало знают, мало читают, мало видят… А когда пустота, они начинают говорить очень много, и очень много ненужного, в СМИ, например, все потому, что их слушают. Вот, например, Безруков, он говорит очень много… Он, может быть, хороший артист, хотя какой-то странный. Я бы никогда с ним не стал работать. Но говорить нельзя, опасно – тебя слушают.
Автор: Екатерина Новожилова
Фото предоставлены интервьюируемым