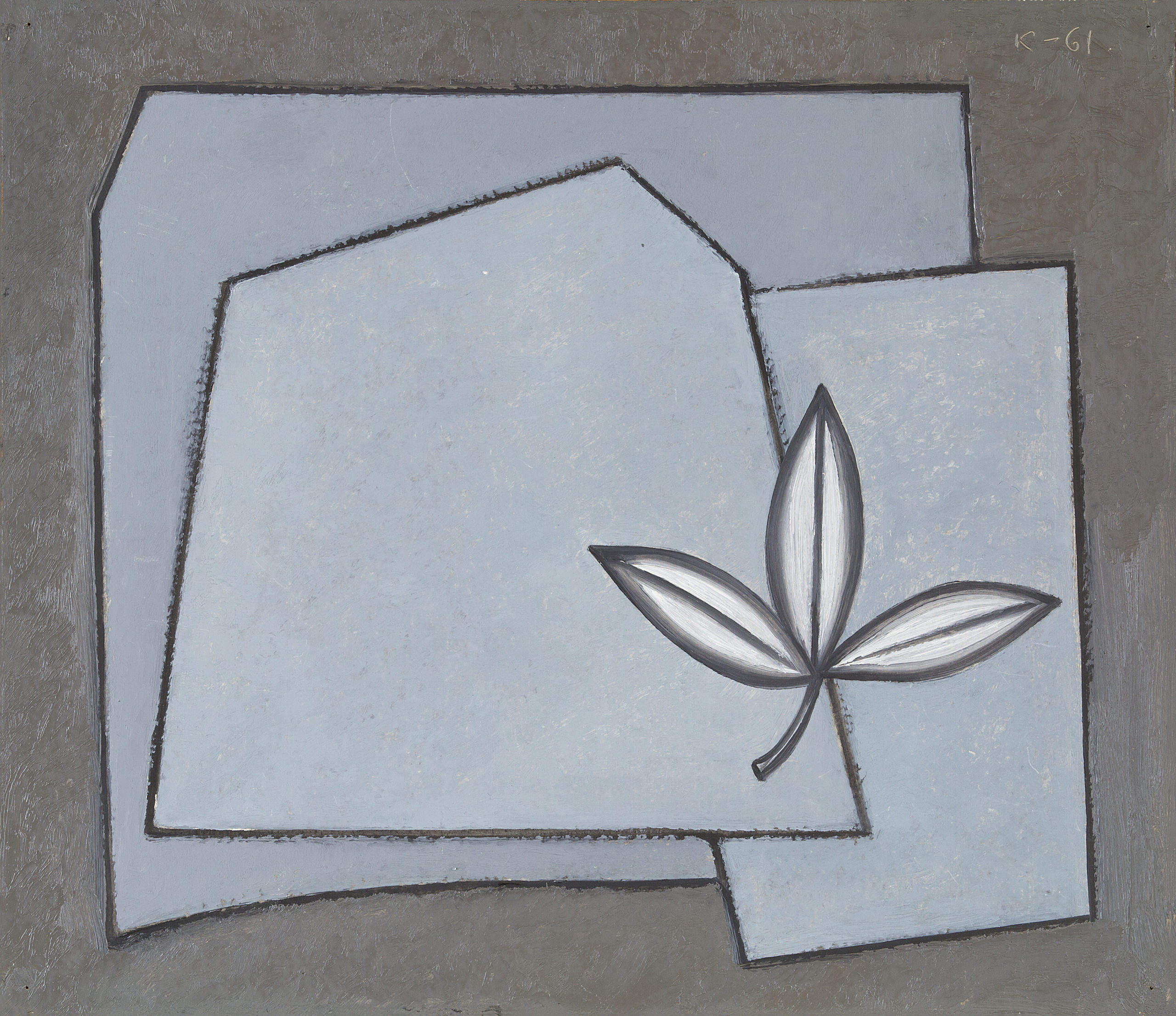Интерес к восточной культуре проявился в западном кинематографе не сразу, но относительно скоро. Примечательно, что влияние Востока приходит в кино ровно в тот момент, когда оно начинает осознавать самое себя, как отдельный вид искусства, а не только как недорогое развлечение после трудового дня. Это происходит примерно с середины 10-х годов, когда формулируются первые монтажные теории, идеи документального кино, а за камеру берутся художники, скульпторы и театральные режиссеры. Внимание интеллектуальной элиты к «Седьмому искусству» или «Великому Немому» (оба названия появляются как раз в этот период) в конечном итоге привело к тому, что кино придумывают заново, но уже в контексте мирового художественного авангарда.
Далеко не все обратили свой взор на Восток в поисках новых средств выразительности, но становление киноавангарда фактически немыслимо без влияния китайской и японской культур, в частности иероглифики.
 Первыми, кто обратил внимание на особенности восточной письменности в контексте кинематографа стали немцы. В 1915-1917 гг. художник Викинг Эггелинг поставил несколько короткометражных картин, под названием «Пластические контрапункты». Он рисовал геометрические и абстрактные фигуры на бумажных рулонах длиной в несколько метров и делал из них короткие фильмы. Его эксперименты положили начало группе «Абсолютное кино», в которую также вошли Оскар Фишингер, Ганс Рихтер и Вальтер Руттман. В основе группы лежала идея о множествах закономерностей, возникающих между абстрактными иллюстрациями, сам принцип движения и построения контрапункта из рисунков и музыкального ритма.
Первыми, кто обратил внимание на особенности восточной письменности в контексте кинематографа стали немцы. В 1915-1917 гг. художник Викинг Эггелинг поставил несколько короткометражных картин, под названием «Пластические контрапункты». Он рисовал геометрические и абстрактные фигуры на бумажных рулонах длиной в несколько метров и делал из них короткие фильмы. Его эксперименты положили начало группе «Абсолютное кино», в которую также вошли Оскар Фишингер, Ганс Рихтер и Вальтер Руттман. В основе группы лежала идея о множествах закономерностей, возникающих между абстрактными иллюстрациями, сам принцип движения и построения контрапункта из рисунков и музыкального ритма.
В своих воспоминаниях Ганс Рихтер говорил: «На этих рулонах мы стремились построить различные фазы трансформации, как если бы речь шла о музыкальных фразах симфонии, таким образом, чтобы целый рулон мог восприниматься как развитие музыкальной темы и был прочитан как китайский или японский свиток, рассказывающий какую-нибудь историю». Иероглифика интересовала авангардистов внутренним взаимоотношением графических форм и философского содержания, вернее, отвлеченного образа-понятия, вытекающего из них.
 По мнению членов группы «Абсолютное кино» они открыли чистый киноязык. И хотя их работы строились скорее на принципах мультипликации, наследие немцев имело большое влияние на киноавангард 20-х годов. В частности, французские сюрреалисты (Ман Рэй, Фернан Леже, Марсель Дюшан и др.) начинают применять в кино принципы коллажа: склеивают, накладывают друг на друга графические абстракции с кадрами предметов и человеческих лиц. Таким образом, эстетический интерес к восточной иероглифике внезапно встал у истоков новых монтажных приемов, с помощью которых художники открывали технические возможности камеры и художественные границы кино.
По мнению членов группы «Абсолютное кино» они открыли чистый киноязык. И хотя их работы строились скорее на принципах мультипликации, наследие немцев имело большое влияние на киноавангард 20-х годов. В частности, французские сюрреалисты (Ман Рэй, Фернан Леже, Марсель Дюшан и др.) начинают применять в кино принципы коллажа: склеивают, накладывают друг на друга графические абстракции с кадрами предметов и человеческих лиц. Таким образом, эстетический интерес к восточной иероглифике внезапно встал у истоков новых монтажных приемов, с помощью которых художники открывали технические возможности камеры и художественные границы кино.
К слову, западная публика, за редким исключением, восточное кино не видела, и авангардисты основывали свои эксперименты на живописи и письменных традициях Китая и Японии. Китайское кино в 20-х годах только начинало свое развитие, нащупывало свои темы, укрепляло студийную систему и экспортом национальных картин за рубеж практически в тот период не занималось. В Японии, где кино развивалось с не меньшим темпом, чем в Европе, дела обстояли иначе.
К началу 20-х годов в Японии сильное влияние имели национальные киностудии Shochiku, Nikkatsu и другие. Доля западных картин в локальном прокате была ничтожна мала, чаще всего их показывали в отдельных кинотеатрах по ночам. Причина кроется не только в присущем японцам патриотизме и защите традиционных ценностей, но и в чисто культурных и языковых различиях: не только студийные боссы, но и в целом японская публика была уверена, что западное кино чуждо и не понятно им, как, впрочем, и наоборот.

Большую часть японского кинорынка заполняли фильма жанра «дзидайгэки» – колоритные истории о похождениях самураев. Но находилось место и экспериментам, очень схожим с западными и советскими. К сожалению, большая часть японских фильмов того периода, в частности авангардные картины, прокат которых был уж совсем мизерным, не сохранились до наших дней, вследствие американских бомбардировок в период Второй мировой войны. Впрочем, о достижениях тамошних авторов можно судить уже по одному фильму «Страница безумия» Тэйносукэ Кинугасы, снятому в 1926 году. Пожалуй, в нем наиболее полно отразились все основные авангардные направления в кино тех лет, такие как экспрессионизм, сюрреализм, интеллектуальный монтаж. И это притом, что, по словам самого режиссера, он не видел работ западных коллег на момент съемок фильма.

Тем не менее западным интеллектуалам успехи восточных экспериментаторов были неизвестны. Об этом можно судить уже по первым словам статьи Сергея Эйзенштейна «За кадром» (1929 год), посвященной японскому искусству и его связи с теорией монтажа. Начинает ее режиссер так: «Между тем автору настоящей книги удалось написать книгу про кино страны, не имеющей кинематографии».
Конечно, Эйзенштейн знал, что в Японии с кино все в порядке, но, по его мнению, в Стране восходящего солнца не было именно «кинематографии». Режиссер дает четкое определение этого понятия в той же статье: «Кинематография – это прежде всего монтаж». Интересно, что понятие монтажа, а за ней и кинематографии складывалось у Эйзенштейна под большим влиянием изучения японского языка в начале 20-х годов.
Для Эйзенштейна вообще характерно сравнение кадра с литературной фразой, и изучение иероглифики принесло ему, возможно, гораздо более богатые плоды, нежели знаменитый «эффект Кулешова». Как и немцев из группы «Абсолютное кино» Эйзенштейна увлекает идея соотнесения двух и более образов для получения отвлеченного понятия: «Сочетанием двух „изобразимых» достигается начертание графически неизобразимого. Например: изображение воды и глаза означает „плакать»». Монтаж слов в языке создает образ, точно так же как и столкновение кадров образует киноязык. В полной мере эта идея станет основой «интеллектуального монтажа», используемого Эйзенштейном в фильме «Октябрь» (1927 год).
Изучение японского языка позднее отразилось и в построении теории звукозрительного контрапункта, описанного в знаменитой «заявке», написанной Эйзенштейном совместно с Пудовкиным и Александровым. В упомянутой статье «За кадром», автор подробно останавливается на истории развития и эволюции языка, как меняются значения того или иного символа в зависимости от времени. Сложное переплетение по-разному трактуемых иероглифов напоминает тот самый контрапункт звука с изображением, который Эйзенштейн с Пудовкиным так надеялись применить в новом десятилетии. Проще говоря, идея состояла в том, что изображение должно показывать свое, а звук совершенно иное. Пудовкин, к слову, предпринял попытку снять фильм, целиком основанный на этом методе, но «Дезертир» (1933 год) получился, даже по словам автора, несмотрибельным, хотя и небезынтересным.
 Впрочем, не только иероглифика повлияла на Эйзенштейна. Не последнюю роль сыграл и национальный театр «Кабуки». Знаменитая идея режиссера об отказе от актерской игры в пользу построения типажа (т.е. актер, как часть монтажной фразы) весьма близка идеям японского театра, гастроли которого проходили в Москве в середине 20-х годов. Вот, что говорит сам Эйзенштейн: «Первым и самым поразительным примером, конечно, является чисто кинематографический прием «беспереходной игры». Наравне с предельным изыском мимических переходов японец пользуется и прямо противоположным. В каком-то моменте игры он прерывает ее. «Черные» услужливо закрывают его от зрителя. И вот он возникает в новом гриме, новом парике, характеризующих другую стадию (степень) его эмоционального состояния. Замена одного меняющегося лица гаммой разнонастроенных лиц — типажа, — всегда более заостренно выразительных, чем слишком податливая и лишенная органической сопротивляемости поверхность лица проф-актера».
Впрочем, не только иероглифика повлияла на Эйзенштейна. Не последнюю роль сыграл и национальный театр «Кабуки». Знаменитая идея режиссера об отказе от актерской игры в пользу построения типажа (т.е. актер, как часть монтажной фразы) весьма близка идеям японского театра, гастроли которого проходили в Москве в середине 20-х годов. Вот, что говорит сам Эйзенштейн: «Первым и самым поразительным примером, конечно, является чисто кинематографический прием «беспереходной игры». Наравне с предельным изыском мимических переходов японец пользуется и прямо противоположным. В каком-то моменте игры он прерывает ее. «Черные» услужливо закрывают его от зрителя. И вот он возникает в новом гриме, новом парике, характеризующих другую стадию (степень) его эмоционального состояния. Замена одного меняющегося лица гаммой разнонастроенных лиц — типажа, — всегда более заостренно выразительных, чем слишком податливая и лишенная органической сопротивляемости поверхность лица проф-актера».
Актер у Эйзенштейна был одним из воплощений понятия «синекдоха», то есть оборота, позволяющего употребить часть, вместо целого. Типаж – выбранный облик исполнителя – выражает представление о целом, в случае Эйзенштейна, в частности в «Броненосце «Потемкине»», о классе.
В «Броненосце» также нашли наиболее яркое воплощение и другие приемы японского театра: «Другой поразительной чертой Кабуки является принцип «разложенной игры». Игра одной правой рукой. Игра одной ногой. Игра только шеей и головой. Весь процесс общей предсмертной агонии был разъят на сольные отыгрывания каждой «партии» врозь; партии ног, партии рук, партии головы. Разложенность на планы. Высвобождаясь из-под примитивного натурализма, актер этим приемом всецело забирает зрителя «на ритм»…». Ровно по тому же принципу строится ритм эпизода на «одесской лестнице»: сапоги солдат, лица людей, открытая ладонь, коляска.
Конечно, в широком разнообразии художественных приемов, используемых Эйзенштейном и другими авангардистами тех лет, японский театр и восточная письменность были лишь одними из многих. Но освоение художественных и поэтических принципов иероглифики, если и не стали основами монтажных теорий авангарда, то уж точно подчеркнули их невероятный потенциал и, более того, вневременную связь двух культур, границы которых Эйзенштейн, равно как и группа «Абсолютное кино» стремился превзойти.
Кирилл Горячок, кинокритик, историк кино, постоянный автор портала Kinomania.ru,
консультант по вопросам кино в Риа Новости, член жюри национальной премии кинопрессы «Голос».
Больше интересных материалов доступно в клубе Пунктум
[:]