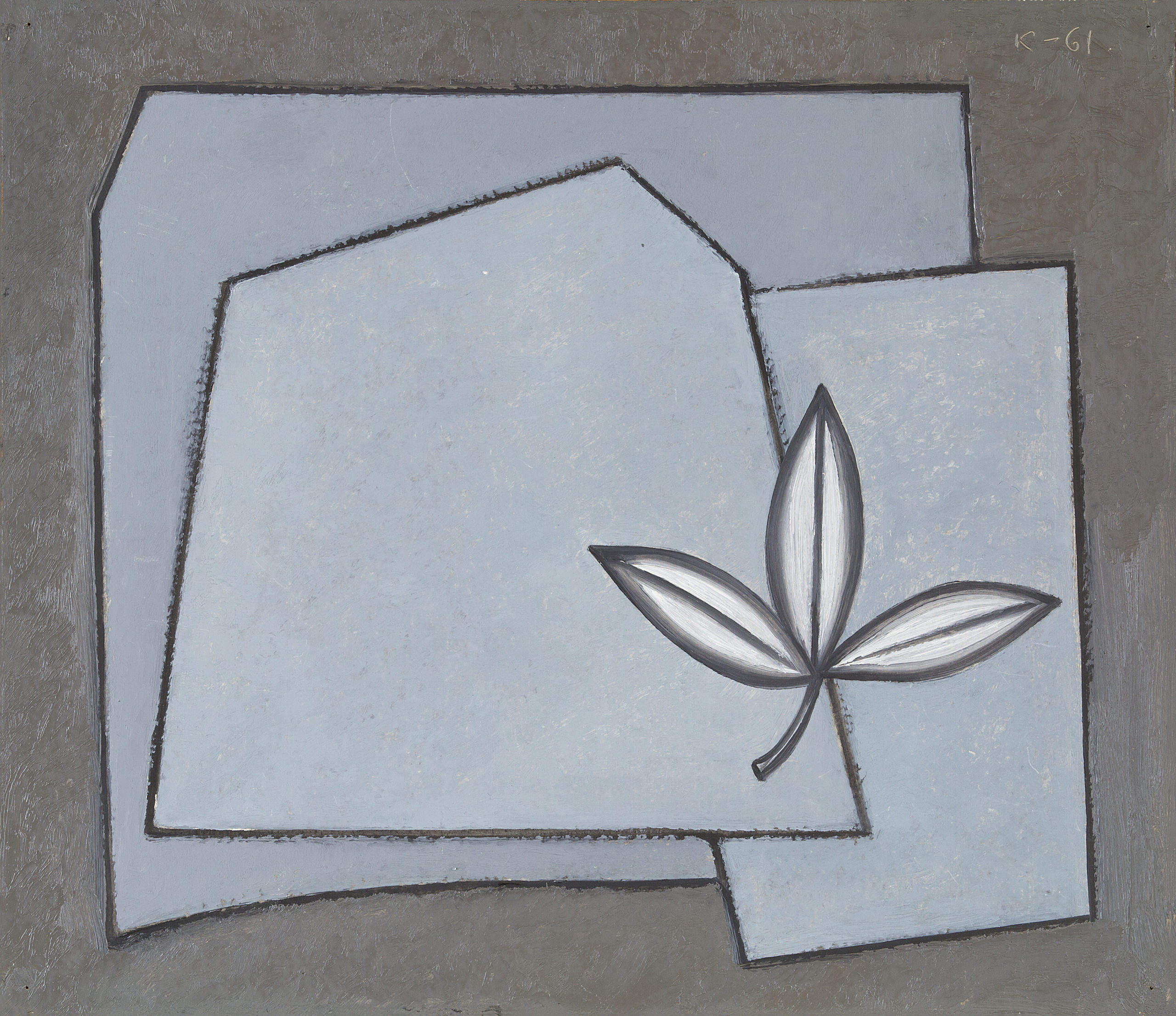Мы сходили на показ “Лавра” во МХАТе им. Горького по одноимённой книге Евгения Водолазкина и забыли про время.

Один мужчина во время антракта сообщил своей собеседнице, что спектакль сократили на 50 минут, и теперь вместо обещанных трёх часов 50 минут останутся лишь три, на что та возмущенно ответила: “Беспредел!”.
Мы измеряем свою жизнь во времени. От того, сколько мы тратим времени на работу, учебу и отдых зависит уровень нашего счастья. Спектакль по книге Водолазкина во МХАТе им. Горького позволяет зрителю почувствовать отсутствие времени.
Постановка “Лавра” — это преодоление времени. Крестьянки в лакированных сапогах по колено, купцы-хипстеры в оранжевых шубах, псковские калачники в тренчах — всё это мы уже видели. Дело не в одежде. Дело в том, средневековая Русь — это та же самая Россия, только в других декорациях. И действительно, так легко сменяются декорации средневекового Пскова на Псков советский, когда действие спектакля переносится из Древней Руси в СССР. При этом не сказать, что декорации древнего Пскова сильно отражают действительность: неоновые кривые на фоне да деревянный мост. Потому что время в “Лавре” сливается как электрогитара с гуслями, создающие уникальное звучание постановки.
“Мне важно, чтобы зритель чувствовал, что речь идёт о современном человеке”, — сказал на показе Евгений Водолазкин
“Лавр” — это житие средневекового врача Арсения (его играют три актёра на разных этапах его жизни: Никита Кашеваров, Евгений Кананыхин, Дмитрий Певцов), который невольно погубил свою возлюбленную вместе с неродившимся сыном, и весь дальнейший жизненный путь его состоял в её отмаливании. “Лавр” — это вся палитра страданий русского человека. “Лавр” — это символ вечной жизни.
В “Лавре” времени нет, а потому живые общаются с мёртвыми. На сцене это показано отчётливо: мертвые проходят в неоновые лифты и стоят там неподвижно перед живыми. Арсений часто обращается к Устине — своей рыжеволосой возлюбленной, которую он потерял во время родов (её играет Алиса Гребенщикова). В момент странствий до Пскова он и вовсе общается лишь с ней, когда решает хранить обет молчания. Он смотрит на неё со сцены, она на него — сверху из прямоугольной ячейки. Устина указывает ему путь, даёт ему силы и смысл жизни. Вспоминаются строки Мандельштама: “И море, и Гомер — всё движется с любовью…”. Вечная любовь движет Арсением на его пути. Однако она не делает его счастливым, а лишь всё более и более растрачивает жизненные силы героя.

Важный мотив в книге, обыгранный в спектакле — мотив повторения событий. Они символизируют нелинейность времени. Когда Арсений, уже зрелый и бородатый (на тот момент его играет третий актер — Дмитрий Певцов) встречает у Гроба Господня монаха, тот говорит ему: “Повторения даны нам для нашего спасения”. В спектакле подчёркнуты повторения в жизни главного героя. Вторые роды по сюжету: койка на том же месте, та же дергающаяся ножка роженицы — только вот Арсений перед ней уже другой.
Тема русской судьбы, русской души выразилась в спектакле в контрасте образов русских и иностранцев. Литовский купец — классический современный хипстер в оранжевой шубе, его манера разговора напоминает ребят у “Цветного”. Он мыслит материально, для него не стоит вечных вопросов. И не то чтобы он был циничным, злым — нет, просто душа его лежит на поверхности. Друг Арсения, с которым они вместе отправились в Иерусалим, — Амброджо — мечтатель. Ему снятся причудливые сны, он занимается вычислениями даты конца света. Однако он достаточно самодоволен, на что указывает позёрская улыбка на лице, и ему не чужды плотские увлечения. Обрусевшая немка — Александра Мюллер — появилась на сцене чопорной и манерной, в зелёном платье с хорошей укладкой, о её духовности мало, что можно сказать. То ли дело русский юродивый Фома, сыгранный потрясающе Михаилом Кабановым. Внешне он глуп и безумен, речи же его — глубочайшие. Вот она, русская душа, показанная с размахом.
“Юродство — это умение посмеяться во благо”, — Евгений Водолазкин
Спектакль заканчивается танцами. На глазах зрителей свет техно-вечеринки сменяется солнечным светом русского народного танца и даёт понять: смерти нет.
Автор: Настя Сенина
Фото предоставлены пресс-службой МХТ им. Горького