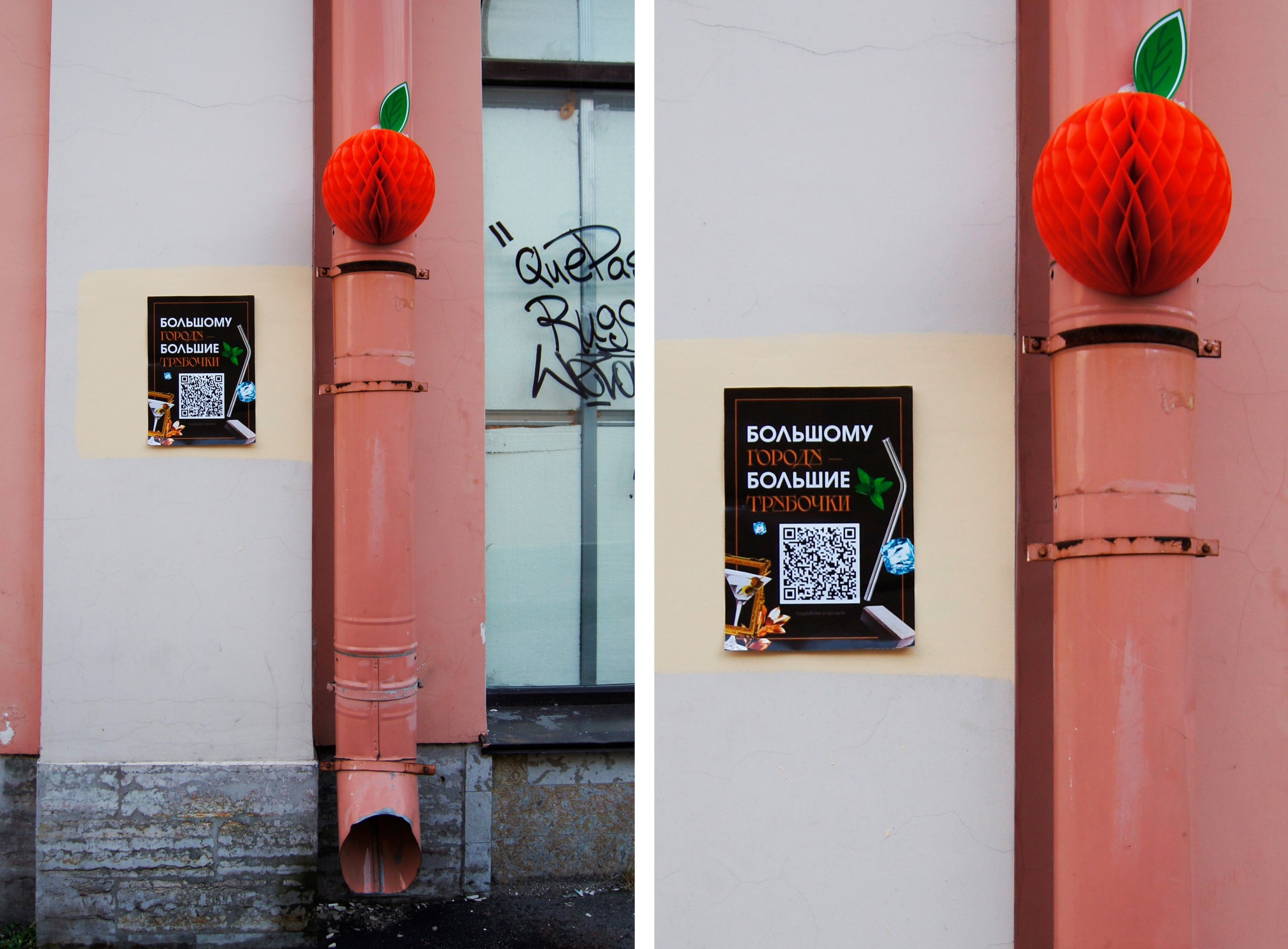Люди все чаще стремятся к тому, чтобы их деятельность не только приносила им деньги и способствовала самореализации, но и имела дополнительный смысл. Поэтому среди частных лиц набирает популярность волонтерство, а в бизнес-сообществе — различные формы реализации социальной ответственности.
Жюльнар Асфари, создатель и член Наблюдательного совета Центра содействия инновациям в обществе СОЛь, рассказывает, почему корпоративная благотворительность — не единственный способ, с помощью которого бизнес может повлиять на решение социальных и экологических проблем.

Хорошая новость: корпоративная социальная ответственность становится нормой
В современном деловом мире, который все чаще опирается в принятии решений на большие данные, мы видим, насколько наш мир хрупок и чувствителен к последствиям социально-экономической деятельности. Фокус на преобразующие воздействие или импакт появляется уже на этапе принятия решения об инвестициях в деятельность. В деловых кругах появляется формулировка «деньги, управляемые мечтой» (passion driven money), которые изменят сам характер бизнеса, отодвинув обеспечение прибыли на второе место. По мнению GIIN, к 2025 году объем импакт-инвестиций может превысить 2 трлн долларов США.
Чтобы успешно конкурировать и взаимодействовать с такими компаниями с одной стороны, и самим более устойчиво проходить «пороги» турбулентности современности с другой, бизнесам нужно переобуваться на ходу и внедрять практики КСО или ESG-подходы (Environmental, Social and Corporate Governance).
В России эта тенденция тоже видна. Например, если несколько лет назад в программах КСО участвовали только 10−15% российских компаний, то уже в 2021 году 98% коммерческих организаций разработали такие программы для своих сотрудников и их семей, а 70% практикуют корпоративное волонтерство.
Это происходит по нескольким причинам.
Бизнес отмечает, что участие в программах КСО помогает:
- повысить репутацию бренда среди партнеров и сотрудников (57%),
- закрепить за собой место на стремительно меняющемся рынке (27%).
Чаще всего бизнес хочет помочь обществу в решении социальных проблем (73%), а также повысить устойчивость бизнеса и поучаствовать в развитии регионов присутствия (57%).
Совместно с этим растет число благотворительных организаций, НКО и фондов. Например, в 2020 году в России действовали уже 108 000 НКО социальной направленности, 2880 зарегистрированных социальных предприятий, в 2021 году — 196 эндаумент-фондов (предназначенных для финансирования некоммерческих организаций) и 6300 социальных предприятий. А совокупные расходы на благотворительность составляют 340–460 млрд рублей, из которых половина покрывается за счет бизнеса.
Плохая новость: люди ещё плохо умеют договариваться
Несмотря на позитивную картину развития КСО в стране и мире, существует и довольно серьёзная проблема — дефицит взаимодействия между благотворительным сектором, государством и бизнесом.
О необходимости объединяться и решать проблемы сообща говорят не только в России. Например, бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун уверен: «Для успешного осуществления повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года мы должны без промедления перейти от обязательств к действиям. Для этого нам необходимы прочные, всеобъемлющие и всесторонние партнерства на всех уровнях».
Как видно по инфографике, в развитии филантропии участвует много сторон — от бизнеса и НКО до фондов и медиа. Точка напряжения возникает в следующем: некоммерческие организации воспринимают помощь как само собой разумеющийся факт, а бизнес, несмотря на практически повсеместное участие в программах КСО, не всегда знает, кого и как выбрать в партнеры, не знает, на что опираться для подтверждения актуальности и важности общественных проблем и как оценить результат, который он получит.
Решение проблемы — тренд на переход от благотворительности к взаимовыгодному сотрудничеству
Команда Центра содействия инновациям в обществе СОЛь провела исследование, которое демонстрирует: для развития корпоративной социальной ответственности бизнесу не обязательно участвовать только в благотворительности. Более того, жизненный цикл такого решения довольно короткий — не более 10 лет, а иногда и менее года. Гораздо эффективнее инвестировать в долгосрочные решения — социально ориентированные проекты, результат которых будет заметен в течение 20–25 лет.
У исследования было две цели:
- Узнать, кто в России занимается социальными и экологическими изменениями в партнерстве с бизнесом. Мы искали представителей бизнеса и коммерческих организаций, социальных предпринимателей, создателей благотворительных фондов, руководителей социально ориентированных НКО и лидеров социальных проектов. Нам было важно познакомиться с этими людьми, а также получить взгляд «изнутри» и понять, кого лидеры будут считать частью своей группы. Для этого мы просили респондентов порекомендовать нам других лидеров и уточняли, почему рекомендуют именно этого человека. За время работы мы провели 97 интервью и получили примерно 300 рекомендаций.
- Описать практики взаимодействия бизнеса и социальных проектов. Для этого мы проводили глубинные интервью с социальными предпринимателями и представителями бизнеса и спрашивали о том, как они сотрудничают друг с другом и какие результаты получают.
Как видно из ответов респондентов, прямая благотворительность, или предоставление финансовых и материальных ресурсов, все еще занимает существенную (39,7%) долю в разных форматах КСО. Это объясняется и краткосрочностью планирования, и путаницей между передачей ресурса (денег, материалов) и социальным эффектом, и просто эволюцией отношений. Для того чтобы перейти к более сложным технологиям партнерства, чем отчет о потраченных средствах, требуется доверие и какой-то опыт «насмотренности» друг на друга.
Существует еще пять вариантов взаимодействия бизнеса и социальных проектов.
Корпоративное волонтерство
Корпоративное волонтерство может быть разным — от акций по уборке мусора до донорства. Организаторами могут выступать как руководители компании, так и рядовые сотрудники.
Интересный пример корпоративного эковолонтерства — проект Дмитрия Иоффе «Чистые игры». Его суть заключается в том, что сотрудники таких крупных компаний, как «Газпром нефть», «Лента», «Норникель» и других, соревнуются в очистке природных территорий от мусора и разделении отходов. Они ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор и получают за это игровые баллы. Победители соревнований награждаются призами.

Этот вид направления программ КСО повышает производительность труда и способствует карьерному росту. Так, влияние волонтерства на продвижение в карьере отметили 91% участников программы Heart Led People, которая действует в KFC.
Pro bono поддержка
В рамках этого варианта бизнес может помогать социальным проектам, инвестируя в них не деньги, а профессиональные навыки. Например, с помощью профессиональных консультаций, которые проводят квалифицированные сотрудники в свое рабочее время. В России с этой практикой знакомы 38% населения.
Один из наиболее известных международных примеров — pro bono программа IBM «Сервисный корпус» (Corporate Service Corps), которая действует уже более 10 лет в разных странах мира. В рамках программы специалисты разных направлений (HR, маркетинг, финансы, IT и т. д.) могут заполнить заявку, в которой они описывают свои профессиональные навыки и рассказывают, какую пользу могут принести тому или иному сообществу и как это повлияет на их собственное развитие. Специалисты, которые проходят строгий отбор, объединяются в международные команды и выезжают в разные страны мира.
В России культуру pro bono развивает платформа todogood, которая работает с 2016 года. Она позволяет неравнодушным специалистам, которые готовы делиться опытом и знаниями с благотворительными организациями, находить социальные проекты, которым нужна помощь.
Предоставление инфраструктуры для социального предприятия
В этом случае бизнес предоставляет социальным инноваторам свои технологии и другие ресурсы. С их помощью они могут обеспечивать жизнедеятельность проекта и масштабировать его.
Самый яркий пример на российском рынке — сотрудничество компании «Билайн» и LizaAlert. Билайн предоставляет добровольческому поисково-спасательному отряду свои технологические решения для поиска людей — от горячей линии до разработанного компанией искусственного интеллекта, который помогает разрабатывать поисковые стратегии.

Такое сотрудничество имеет позитивное влияние на бизнес: клиенты, которые знают о сотрудничестве «Билайн» и LizaAlert, в два раза более лояльны к бренду.
Выбор услуг и товаров социальных предпринимателей
Эта модель используется уже довольно давно. С ее помощью бизнес может закрывать свои различные потребности.
Хороший пример — платформа BuySocial, которая выступает в качестве маркетплейса корпоративных подарков, которые производят российские социальные предприниматели. В 2021 году компания реализовала более 32 тысяч единиц продукции.
Встраивание услуги или товара социальных инноваторов в цепочку бизнес-процессов корпорации
Это, пожалуй, самый сложный вариант, так как в рамках этой модели товары социальных предпринимателей встраиваются в цепочку продаж торговой сети. В этом случае социальное предприятие должно взять на себя обязательства по качеству продукции и бесперебойности поставок. Бизнес, в свою очередь, нередко помогает подрядчику настроить бизнес-процессы.
Пример такого взаимодействия — партнерство IKEA и фонда «Антон тут рядом», который помогает людям с аутизмом. Подопечные фонда шили для компании наволочки и кардхолдеры.

Более подробно о других кейсах эффективного взаимодействия бизнеса и социальных инноваторов вы можете узнать на сайте исследования «Карты БиС».
Фото обложки: Possessed Photography