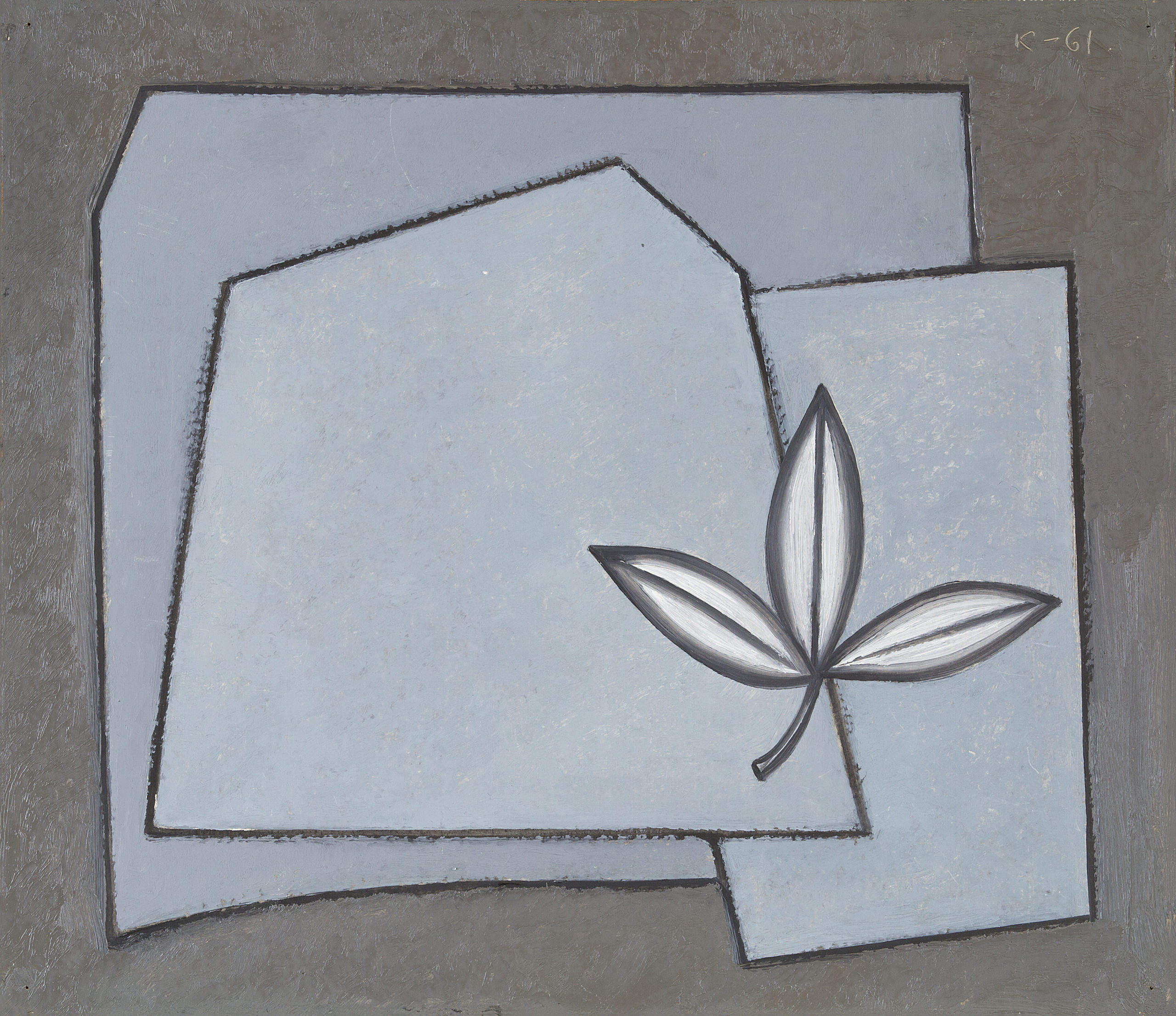По Гегелю, мы говорим о содержании закона, а закон представляет собой воплощение человеческой воли[1]. Потенциальная возможность воплощения воли – это праздник первичной человеческой правосубъектности. Но зачем существует свободная воля, как и где её можно увидеть? Наиболее очевидный вариант объективации свободной воли представляет собой право собственности.
С одной стороны, право собственности обусловливает объективацию свободной воли в наличном бытии – в обладании собственностью как своей. С другой стороны, кто готов за него поручиться, и не вытекает ли «наличное бытие свободной воли» из химер благодати, народного духа, природы вещей (в зависимости от удобного толка)? Ответ на данный вопрос при определении собственности имеет прикладное значение.
Когда мы рассуждаем о сущности права – мы решаем вопрос о системе координат, о языке программирования, на котором принято структурировать коды. При философствовании о праве собственности мы обращаемся уже непосредственно к кодам, каждый раз разрешая вопрос: «Иметь или быть?». Или, вероятно, иметь или быть лишь отчасти.
Но если по Гегелю право собственности производно только от воли, не является ли такое абстрактное право собственности оправданием произвола и права сильного, преодолевающего «голую субъективность» на своём пути и возводящего в Абсолют волю свою и только свою? Произвола не происходит, так как воплощение воли детерминировано мышлением и от него неразрывно. Произвол как отклонение от порядка возможен тогда, когда автономный порядок уже существует. Мы не обязательно имеем с ним дело, но способны о нём говорить – мы уже его называем. Предположим, что «универсальный» и «верный» порядок действительно есть. Что тогда можно сказать о праве собственности?
К сожалению, ничего нового, кроме того, что оно фрагментируется, воплощается в математической формуле: «если…, то – иначе». И если право собственности являет собой часть порядка, то концепт права собственности превращается у нас на глазах в пустое множество. Но по Гегелю это принципиально не так. Право собственности есть проявление воли, и оно хорошо, красиво и правильно. Оговорку схожего толка мы встречаем в учениях о благодати и тех доктринах права, которые формировались под воздействием религиозных догматов. «Конкретное тождество добра и субъективной воли», венчающее теорию Гегеля, возвещает нам старые (вечные) истины, которые в зависимости от количества/качества смыслового балласта могут казаться читателю более или менее пошлыми. Дело не в том, что каждая субъективная воля – добро, а в праве этой воли на существование – хотя бы в силу первичной правосубъектности. Право собственности гарантирует утверждение правосубъектности, или возможность проведения воли с отсылкой не на авторитет или букву закона, но на «голую субъективность». Право per se.
Особенность современной концепции права собственности заключается в том, что в самом понятии этом отражена диалектика объективного и субъективного. Она в формуле «отношения к вещи как к своей». Право собственности – это право чего? Право собственности. На каком основании? На основании права. В отношении чего? Ответ на каждый из данных вопросов может быть неизменным: «право собственности». Оно звучит гордо и неприступно. Дело в том, что, задавая вопрос, мы понимаем, что ответ на него, по сути, не так уж и важен. Не потому, что он не имеет значения, а потому, что не сообщает нам ровным счётом ничего нового.
Напротив, ключ к пониманию права собственности коренится в постановке вопроса. На каком основании? В отношении чего? Чьё оно, это право? Постановка различных вопросов к очевидному, казалось бы, варианту ответа – далеко не лишённое смысла занятие. Это верный способ если не понять, то проникнуться ответом, столкнувшись с его самоочевидностью лицом к лицу и, вероятно, придя от этого в ужас.
Суть «абстрактного права», по Гегелю, не в произволе, реализующемся в условиях дискурса, который уже существует. Совсем наоборот, полагание «абстрактного права» невозможно без необусловленного – наивного, если угодно, – взгляда на вещи. Широта взгляда на вещи производна от умения поставить вопрос. Перед собой, перед другими – даже перед вещами. И такой взгляд на вещи не обусловлен языком, на котором мы здесь и сейчас разговариваем, потому что ответ на вопрос «что?» для мышления в принципе не интересен. Он плодит только прежнее знание, что вообще, по меткому замечанию Мишеля Фуко, присуще комментированию, попытке обнаружения истинного / ложного в пределах дискурса, истинность которого нельзя подвергнуть сомнению[2]. Для поиска ответа на вопрос «что?» это классический случай.
На наш взгляд, ответ на вопрос «почему?», «для чего?» и «кому от этого легче?» — предпосылка мышления вне, а точнее будет сказать – у самых корней существующего дискурса. «У корней травы». Это основа мышления реакционного и в то же время прогрессивного просто потому, что сами слова не имеют большого значения. Они просто определяют, их можно пробовать, проверить на вкус. Играть словами – не пустое занятие, когда понимаешь, что за ними стоит. Не это ли воистину являет собой «абстрактное право», не в словах ли кроется пресловутая голая субъективность?
Вместе с тем современные толкователи Гегеля рассказывают нам о значении произвола в его системе, приравнивая утверждение права едва ли не к систематическому волюнтаризму (sic!) и нарушениям гражданского законодательства. Но, как указывалось выше, без поведенческой системы координат произвола в принципе не существует. И в отсутствие системы координат вопрос «иметь или быть?» приобретает поистине сакральную значимость.
Правовые законы у Гегеля обусловлены человеческой волей, утверждение чего предоставляет исследователям благодатную почву для взращивания редукционистских конструкций в духе, в лучшем случае, «общей воли» Руссо и риторики Просвещения, а в худшем – для оправдания детерминированного позитивизма. Человеческая воля у Гегеля, представляется нам, подразумевает совершенно иную конструкцию. Необходимость толкования воли в контексте мышления наши подозрения лишь подкрепляет. Дело в том, что воля к собственности отсылает к самому основанию дискурса – на этап формирования культуры и того языка, на котором мы разговариваем. В дебрях ст. 177 Гражданского Кодекса Российской Федерации этой воли не разглядеть (хотя иногда предлагается)[3]. Даже более того – симптоматична склонность её там усматривать.
Правовая воля, способная воплотиться в праве собственности, раскрывается у Гегеля иначе – без пафоса свободы, волюнтаризма, «сверхчеловека» и прочей «железной хватки». Индивидуальная воля, положенная в основание голой субъективности, априори не может что-либо нарушить постольку, поскольку она сама создаёт дискурс права. А дальше в дело вступает язык. Не только вещи определяют слова (моё право собственности на комплекс товаров не трогать!), но и слова непосредственно формируют всё то, что нас окружает. Или, для простоты, то, как мы это видим.
Потому редукционистское толкование философии Гегеля чревато неверным пониманием исходных посылок и, что даже опасно, неверным пониманием конечного следствия. Особенность воли заключается в том, что её проведение при посредстве мышления образует конечные смыслы – не формы. Субъект воли – субъект в полном смысле этого слова, он настолько полноправен, что готов поступиться даже разговорами о своей субъектности. Зачем ему это? Он пребывает в состоянии до войны всех против всех и до вавилонского столпотворения.
В таком состоянии справедливость обретает характер случайности, но случайность эта – вовсе не произвол в негативной коннотации слова. Не капризы законодателя и гражданско-правовой доктрины подразумевал Гегель под «случайностью права»! Здесь уместно, скорее, припомнить Мишеля Фуко и его принцип прерывности: «Если и существуют системы прореживания, то это не означает, что где-то под ними, или по ту сторону их, царит некий великий безграничный дискурс, непрерывный и безмолвный, который … оказывается вытеснен или подавлен, так что нашей задачей является помочь ему подняться, возвращая ему, наконец, слово»[4]. Не должно представлять себе здесь нечто несказанное, что, обегая мир, сплетается со всеми своими формами и событиями. Дискурсы должно рассматривать как прерывные практики, которые перекрещиваются, иногда соседствуют друг с другом, но также и игнорируют или исключают друг друга». Полагаем, что данным определением Фуко опровергает классическую теорию правоотношений, указывая на то, что отказ от случайности самосознания в пользу «русла штампованных отношений» до добра не доводит.
Гегель недаром пишет о том, что в условиях нравственности понятие свободы становится наличным миром и природой самосознания. Увещевания митрополита Илариона в «Слове о законе и благодати» невольно приходят на ум: «закон отойдёт», а придёт благодать[5]. Мы видим субстанциальность закона, который, утвердившись в сознании, и в самом деле отходит – уже просто в силу того, что это слово, как оно понимается позитивистами, становится лишним. Свобода как идея предполагает наделение правом, в том числе в отношении собственности, которая, по Гегелю, выступает «царством осуществлённой свободы». Причём акцент делается на слово «осуществлённой».
Полагание права собственности в основу основ не противоречит ни тому, что закон отойдёт, ни тому, что воля свободна. Да, Гегель пишет о том, что «освобождение человека – в подчинении закону». Думается, провозглашение Гегелем (личностью весьма авторитетной) страшных слов подобного рода открыло широчайшие возможности для позитивистских, да и в принципе догматических фантазий. Ведь важно помнить, что именно Гегель имел в виду под законом и как он понимал право собственности. Право собственности – принцип овеществлённой безусловной свободы. В то же время постулат Гегеля зачастую используется для того, чтобы петь оды условностям – «законническому обрезанию», если следовать Илариону.
Закон есть воля, и данное высказывание справедливо потому, что каждый раз отсылает к началу – к мышлению права, исключая неустойчивый словесный диктат. Помещение своей воли в «право собственности» подразумевает одновременно триумф личности и объективацию воли, причём не только для себя, но и для других. Собственник – нечто большее, нежели коллекционер. Собственник – это личность. Масштаб правового осознаётся личностью внутри себя, то есть в ходе мышления. Освобождение личности представляет собой тяжкий труд.
Поэтому вполне логично, что у Гегеля момент развития идеи права характеризуется переходом от защиты собственности к защите особенности, личного статуса, когда во главу угла поставлен поступок. Человек по мере развития свободы выбирается их «приюта вещей» — первичного убежища воли, нашедшей своё воплощение где-то помимо исторической памяти.
Казалось бы, вот она – верная расстановка акцентов, переход к личности, полагаемой над царством вещей! Но, может быть, всё-таки овеществление личности?
Да, диалектика слов и вещей, субъективного и объективного играет сегодня новыми красками. Но с каким «жанром» изобразительного искусства имеем мы дело в пределах нашей культуры, о каких красках ведём разговор, на что смотрим и что готовы увидеть?
Возможно, именно по причине последних рассуждений в ответ на вопрос «Что такое собственность?» так часто хочется пожать плечами и отправиться изучать языки – в самом широком смысле этого слова.
Автор: Георгий Тюляев
[1] Гегель Г.В.Ф. Философия права, М., 1990, С. 52.
[2] Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет, М., 1996, С. 41.
[3] Семякин М.Н. Философия частного права в учении Гегеля и его методологическое значение для развития цивилистической доктрины [Электронный ресурс] // Российский юридический журнал. – 2013. №4. С. 112; СПС КонсультантПлюс.
[4] Фуко М. Указ. соч. С. 53.
[5] Иларион. Слово о Законе и Благодати. М., 1994, С. 29.